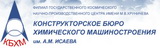Глава 19-20
ГЛАВА 19.
12.10.2012
Просмотрел
в ноябре 2011 года полемику на Форуме «Роль Глушко в Космонавтике». Жалею, что
не заглянул раньше, когда писал главы 13-17, последние совпадали по времени. Не
со всем, о чем говорилось на Форуме, могу согласиться, но с высказываниями
подавляющего большинства - согласен. Однако хочу добавить некоторые личные
впечатления о том времени. У меня нет под рукой документов, как у salo, буду говорить
по памяти. В конце 72, в 73 и начале 74 года, когда отработка ДУ С5.51 блока
«И» Н1-Л3 была фактически закончена (получено заключение о допуске к ЛКИ и
проведены поставки на №№ 8Л и 9Л) я проводил много времени в проектных отделах
ЦКБЭМ. Я имею в виду те отделы, которые были под руководством В.К.Безвербова, и
в отличие от проектантов К.Д. Бушуева, располагались в одном из «школьных»
зданий на «грабинской» территории. КБХМ участвовало во многих проектных
разработках, относящихся к МКБС (Многоцелевая космическая база-станция). Я
считаю МКБС крупнейшей и важнейшей проектной
разработкой Королева-Мишина. К сожалению, о ней почти ничего не говорится в
исторических документах и в воспоминаниях. Важнейшие КА ДЗЗ в системе МКБС
должны были иметь стыковочные узлы для присоединения к станции. Некоторые из
них по массе превышали возможности «семерки» и должны были выводиться на Н-11. В первую очередь рассматривались
КА по заказам ГРУ, которые на МКБС должны были пополнять запасы фотопленки,
компонентов топлива и газов. В одном из вариантов на одной орбите и на
небольшом расстоянии от МКБС находилась заправочная станция с запасами топлива
свыше 50 т., которая выводилась Н-1.
Фактически речь шла о создании системы многоразового использования КА при
переходе их с рабочей орбиты на орбиту МКБС. Рассматривался вопрос и о
буксирах-спасателях для захвата и транспортировки КА не оборудованных
стыковочными узлами к МКБС. Все многократно используемые КА и буксиры-спасатели
проектировались с ДУ КБХМ.
Эта
тема увлекла меня своим размахом и новизной. Совсем по-другому рассматривались
обязанности космонавтов на МКБС. Это должны были быть высококвалифицированные
инженеры, обладающие практическими навыками работы с оборудованием КА. В конце 72 года я приказом был зачислен в
целевую аспирантуру НИИТП. Выбрал тему об особенностях разработки ДУ КА в
системе МКБС. Моим руководителем был В.Н.Богомолов. Вариантов ДУ было много, но
все они базировались на двигателе 11Д442, основу которого составлял двигатель
С5.62 ДУ С5.51 блока «И» Н1-Л3. В системе МКБС решались и другие задачи,
которые не касались КБХМ. Это промежуточный транспортный узел при полетах на
другие планеты или на стационар. Это электростанция на панелях солнечных
батарей большой площади. От нее могли подзаряжаться и аккумуляторы на
обслуживаемых КА. Параметры орбиты МКБС не были точно выбраны, но ДУ КБХМ
должны были обеспечивать работу КА на орбитах от 500 до 200 км. не менее 25 раз. С
этой целью в КБХМ проводились ресурсные испытания двигателя С5.62 с
турбонасосной системой подачи на тысячи включений и десятки тысяч секунд
суммарной работы. С приходом В.П.Глушко все работы по МКБС, как производные от
Н1, были прекращены. В.К.Безвербый
уволен. Наш постоянный куратор от ЦКБЭМ по ТЗ Л.Б.Простов, который последнее
время работал по МКБС перешел работать замом Б.А.Соколова по ОДУ «Бурана». Мне
было предложено ограничиться в диссертации только работами по двигателю 11Д442,
но я как-то потерял интерес к защите.
Вообще в конструкторских отделах КБХМ к началу
70-х годов было всего два к.т.н. Это К.Г.Сенкевич и Б.Б.Парпаров. А.М.Исаев
относился к ученым степеням крайне негативно. Считал, что работа над
диссертацией отвлекает человека от настоящей инженерной работы в КБ. Меня
удивляло обилие кандидатов и докторов в конструкторских отделов В.П.Глушко.
Если у Глушко разработкой одного ГГ занималась целая конструкторская группа, то
у нас один А.Н.Нешин разрабатывал несколько ГГ, а объем конструкторской работы
не зависит от абсолютной величины ГГ. Сподвижник
В.П.Глушко А.Д.Вебер определил своего сына на работу в отдел КС КБХМ, где можно
было быстрее набраться практического опыта.
Наверное, отсюда такая разница в «ученых» у А.М.Исаева и В.П.Глушко. В
истории космонавтики А.М.Исаев остался единственным человеком, который
самостоятельно дважды отказался от присвоения звания членкора и действительного
члена АН СССР. Заканчивая разговор о МКБС, следует отметить, что при его
наличии может быть и удалось отреставрировать Фобос-Грунт и ряд других КА на
опорных орбитах. Но сейчас возродить что-то в стиле МКБС невозможно, хотя со
временем такая система будет существовать в международном масштабе.
У меня нет однозначного мнения о правильности
решения Б.Е.Чертока и компании по созданию первых ДОС. Конечно, ЦКБЭМ обошло
В.Н.Челомея с его «Алмазами» и застолбило приоритет нашей Родины по длительной
работе человека на около земных орбитах. Но сейчас видно, что ограничившись
только «Миром» или даже МКС нельзя многого сделать в освоении космоса.
Возникает вопрос: «А нужна ли на орбите Земли пилотируемая космонавтика?». МКБС
давало однозначный ответ о ее необходимости. В.П.Мишин был верным и
последовательным сторонником идеологии С.П.Королева. Понимая шаткость необходимости пилотируемого полета
на Луну, он старался сохранить МКБС, который был хоть как-то привязан к задачам
МО. Он понимал, что ставка на ДОС ставит крест на всей программе Н1. Это,
наверное, понимали и Б.Е.Черток и его приверженцы. Но об этом другой разговор.
Об
истории взаимоотношений С.П.Королева и В.П.Глушко я писал еще в главе № 14.
Напомню, их первая встреча произошла в январе 1933 года, когда делегация ГИРД в
составе Цандера, Королева, Тихонравова, Победоносцева, Параева и Корнеева
приехала в ГДЛ. Встречу никак нельзя назвать дружеской. Вот замечания ГИРД по
работам отдела 2 ГДЛ (отдел Глушко). «Работы ведутся только по КС, без учета других составляющих ЖРД, поэтому носят
беспредметный характер, недостаточно
уделяется внимания вопросам теплового расчета двигателя. Конструкторская
документация выпускается в другом отделе, что противоречит общепринятой мировой
практике». В ответе, составленным Глушко и Кулагиным и утвержденным Клейменовым
говорится: «Мнение ГИРД не может служить направляющим для работ 2-го отдела,
т.к. последний, имея богатый опыт в части
РД на жидком топливе и имея достижения, не может считать за авторитет
организацию, которая сама, не имея никакого опыта в данном вопросе, еще учится,
причем идет, как нам известно,
неправильным путем». Обращает на себя внимание тот факт, что замечания
ГИРД касаются техники дела, а ответ ГДЛ написан в стиле «Сам дурак».
Разногласия
между работниками ГИРД и ГДЛ продолжались и в РНИИ, где все руководство РНИИ
было из ГДЛ. Взгляды на развитие ракетной техники у С.П.Королева и В.П.Глушко
временами полярно менялись, и далеко не всегда это было синхронно. Возвращаюсь к истории выбора двигателя и
компонентов к Н1. Не везде можно проследить выбор по документам. Мечту о
тяжелом носителе С.П.Королев вынашивал еще с 45 года, она была естественным
продолжением его работ по созданию стратоплана в РНИИ, да и М.К.Тихонравов
предлагал связку из нескольких Фау-2 на 1-й ступени. С.П.Королев был знаком и с
проектными разработками фон Брауна по «А-9/А10» и «Программы Америка». Видел он
в Пенемюнде и стенд для испытания двигателей на 200 тонн тяги. Проект ракеты Р-3
на НТС НИИ-88 С.П.Королев представил 07.12.49 г. В соответствии с работами по
НИР «Н-2» была выбрана топливная пара кислород-керосин. Против этой пары были
замечания военных. ТЗ на двигатель тягой 120 т. было выдано В.П.Глушко и
А.И.Полярному. Отзыв А.М.Исаева по двигателю В.П.Глушко имел много замечаний
(по технологичности, по импульсу последействия и др.). Двигатель Глушко был
выбран в основном, потому что у Полярного не было своей экспериментальной базы.
В решении НТС указывалось на необходимость выполнения В.П.Глушко требований ТЗ
НИИ-88. На необходимость выполнения требований ТЗ С.П.Королев указывал еще в 47 г. В это время разногласия
между Королевым и Глушко были не по компонентам, а по выполнению ТЗ. Видно они
были серьезные, т.к. С.П.Королев настаивал на организации своей стендовой базы
в филиале № 2 НИИ-88 под Загорском. Вопрос не был решен из-за необходимости
больших средств и времени, и наличия таковой базы в Химках. В ответ на
замечания военных по проекту двигателя ракеты Р-3 В.П.Глушко 12.01.50. направил
письмо в МО и в другие руководящие инстанции о неправомерности требований МО по
замене кислорода на азотную кислоту. Мотивировал это тем, что двигатель тягой свыше 8 тонн создать на
кислоте невозможно.
Последней ракетой, созданной на основе Фау-2, была Р-5 (вед. конструктор
Д.И.Козлов). Ракета проходила ЛКИ с 03.53. по 02.55. и была принята на
вооружение. Но уже с 54 г.
разрабатывалась ракета повышенной надежности Р-5М под ядерный заряд. 21.06.56.
первая стратегическая ракета Р-5М принята на вооружение. За разработку этой
ракеты С.П.Королев, В.П.Мишин, В.П.Глушко и др. получили звание ГСТ. Ракета
имела дальность 1200 км.,
а Р-2 только 600. Макет Р-5 стоит у музея вооруженных сил, а Р-2 на въезде в г.
Королев. Сразу видно, что это совершено различные ракеты. Увеличение дальности
получено в основном за счет несущих алюминиевых топливных баков и отделяющейся
головной части. Двигатель практически остался старым. По сравнению с двигателем
РД-101 ракеты Р-2, давление в КС двигателя РД-103 Р-5 увеличено на 2,5 атм. (с
21,6 до 24,1). В двигателе РД-103М давление в КС увеличено еще на 0,3 атм. (до
24,4). Если следовать логики В.П.Глушко, что автором «катюши» является
Г.Э.Лангемак, а не А.Г.Костиков, то автором двигателей от РД-100 до РД-103М
нужно признать доктора Вальтера Тиля, погибшего при бомбардировке Пенемюнде
18.08.43 г. английской авиацией, а не В.П.Глушко. После смерти Вальтера Тиля
работы по двигателям для баллистических ракет дальнего действия продолжались.
Упоминается о разработке двигателя тягой 150 т., два испытания которого были
якобы проведены в Пенемюнде в декабре 44 г. и в январе 45 г. Каких-либо сведений о
результатах этих испытаний я не нашел. Известно, что в 45-46 гг. нашими
специалистами в Германии проводились форсированные испытания трофейного
двигателя Фау-2 с 25 до 35 т. по тяге.
В 1951 г. С.П.Королев был
руководителем НИР «Н-3». По этой теме предполагалось определить облик ракеты
межконтинентальной дальности. Работы по проекту ракеты Р-3 показали, что
одноступенчатой ракетой такой дальности достичь не возможно. Нужен
принципиально новый тип составной ракеты. К этому времени С.П.Королев еще не
определился, будет ли новая ракета баллистической или крылатой. На НТС НИИ-88
он выступил с двумя докладами впервые в качестве ГК ОКБ-1 и заместителя
директора института. 27.12.51 г. по варианту баллистической ракеты и 16.01.52
г. по варианту крылатой ракеты. Для баллистической ракеты была выбрана
топливная пора кислород-керосин. Двигатель ракеты закладывался с давлением в КС
60-100 атм. (В Р-5 было 25) В докладе С.П.Королева указывалось, что стойкие компоненты для этой ракеты неприемлемы, т.к. с ними нельзя обеспечить
дальность свыше 1000 км.
С В.П.Глушко в этом вопросе никаких расхождений не было. Что касается крылатого
варианта, то в дальнейшем эти работы были переданы в МАП. На этом закончились
работы Королева по крылатым ракетам, которые он вел еще со своего прихода в
ГИРД и отдавал им предпочтение перед баллистическими ракетами. Крылатую ракету
«Буран» стал разрабатывать В.М.Мясищев с двигателем В.П.Глушко на 1-й ступени,
а крылатую ракету «Буря» Лавочкин с двигателем А.М.Исаева на 1-й ступени. Надо
сказать, что в мае (или июле) 1951
г. приказом МВ (с 15.03.53 г. МОП) М.К.Янгель был
назначен заместителем Королева по проектным работам. Хотя только в марте
Королев своим приказом назначил Янгеля своим замом по серийным работам ОКБ-1, с
курированием работ на Днепропетровском заводе ракет Р-1 и Р-2. Приказ МВ вызван
тем, что в конце 50 г.
Королеву было поручено проработать вопрос о возможности использования БРДД для
нужд ВМФ. На одном из НТС НИИ-88 в 51
г. Д.Д.Севрук и А.М.Исаев выступили с докладами о
возможности использования стойких компонентов при разработке баллистических
ракет. Глушко за это выступление назвал Севрука авантюристом, Севрук в это время работал заместителем у Глушко.
С.П.Королев разрабатывал проект ракеты Р-11 на стойких компонентах с двигателем
А.М.Исаева С2.253М от ЗУР без особого энтузиазма, несмотря на настойчивые
призывы военных. ЭП Р-11 был разработан к 30.11.51. под руководством
М.К.Янгеля, и был встречен военными «На ура».
В марте 1952 г. в составе НИИ-88 были организованы два
ОКБ для разработки двигателей на стойких компонентах. В первую очередь для ЗУР
это: ОКБ-2 А.М.Исаева и ОКБ-3 Д.Д.Севрука. Севрук с удовольствием принял это
назначение и перешел в НИИ-88 от Глушко. Вместе с Севруком от Глушко перешли
еще ряд работников, всего человек 15. В.Я.Малышев, Р.А.Скорняков, В.С.Лурье,
В.С.Башкин, Е.Г.Ланда и др. потом они
долгие годы работали в ОКБ-2 после объединения с ОКБ-3. В ОКБ-3 были развернуты
работы: по двигателям для ЗУР С.А.Лавочкина и П.Д.Грушина, по самолетным ЖРД
для А.И.Микояна, по неуправляемым зенитным ракетам «Чирок» (на основе немецкой
«Тайфун»), по тактической ракете «Коршун» с дальностью 50 км., и по ЖРД для баллистических
ракет. КБ разместилось в новом 3-х этажном здании, к которому примыкали два
производственных цеха и различные лаборатории. Строилась современная по тому
времени испытательная станция со стендами для огневых испытаний ЖРД с тягой до
17т. на стойких компонентах. Стенды постепенно вводились в эксплуатацию. Была
своя компрессорная и заправочная станция. Д.Д.Севрук первый в СССР создавал и
испытал ЖРД с ТНА тягой от 3-х до 17 т. на испытательной станции ОКБ-3. ЖРД для
ЗУР создавались с ТНА, где ГГ впервые работал на основных компонентах. Работы
Д.Д.Севрука поддерживал М.К.Янгель, который в 53 году был назначен директором
НИИ-88 и стал начальником над С.П.Королевым. Все было бы хорошо для ОКБ-3, если
бы не характер Д.Д.Севрука и стиль работы, который он перенял от В.П.Глушко.
Объем
работ, который набрал Севрук, требовал наличия соответствующей производственной
базы, а он имел только два небольших цеха № 106 и № 107. Материальной части для
проведения экспериментов было явно недостаточно. Я помню, как работая в отделе
31 ОКБ-3, испытания постоянно проводили в сверхурочное время из-за позднего
поступления изделий из цеха. У Д.Д.Севрука первым замом, как и у В.П.Глушко был
зам по испытаниям. Это Г.М.Табаков, будущий многолетний заместитель министра в
МОМ. Опыта работы с серийными заводами у Д.Д.Севрука не было. В.П.Глушко при
ограниченной номенклатуре изделий имел солидный завод. А.М.Исаев в Подлипках,
кроме своего опытного производства, пользовался крупным двигательным цехом № 5
завода № 88. Кроме того его изделия быстро передавались на заводы Златоуста и
Днепропетровска. М.К.Янгель, для которого Д.Д.Севрук спроектировал двигатели
для ракет Р-12, Р-14 и Р-16, в 56
г. предлагал ему частью коллектива перебраться в
Днепропетровск и быть его замом. Севрук отказался. На заводе №586 был создан
филиал ОКБ-3 во главе с И.И.Ивановым для ведения работ по документации Севрука
с двигателями С3.40, С3.41, С3.42. А также по экспериментальным двигателям для
ракеты Р-16, по двигателю для морской ракеты М.К.Янгеля Р-15 (уменьшенный
вариант ракеты Р-12) и по двигателю с ТНА для замены Исаевского двигателя
С2.253М ракеты Р-11, которая изготавливалась на заводе № 586.
В это
время у В.П.Глушко очень тяжело шла отработка двигателей на кислороде-керосине
по Р-5 для С.П.Королева из-за высокочастотных колебаний. Глушко внимательно
следил за работами Севрука на стойких компонентах. Еще в 51 г., когда Севрук работал в
Химках, начались работы с экспериментальными двигателями на кислоте с керосином
под 1-ю и 2-ю ступени ЗУР размерностью в 9 и 2,7 т. (РД-200 и РД-219). Глушко
быстро оценил перспективность работ Севрука на стойких компонентах. В 53 г. по ТЗ от НИИ-88
(Д.Д.Севрук, М.К.Янгель) он начал работы по 4-х камерному двигателю РД-211
тягой 56 т. под БРДД Р-12, на которую еще не было выданы ТТХ от МО. В 54 г. В.П.Глушко начал работы
по ТЗ В.М.Мясищева по двигателю РД-212 тягой 57 т. для 1-й ступени крылатой
ракеты «Буран», в 56 г.
его тяга была увеличена до 70 т. и он получил индекс РД-213. В 55 г. В.П.Глушко получил ТЗ от
М.К.Янгеля на двигатель для ракеты Р-12 без подтверждения директивными
документами. Этот двигатель, получивший индекс РД-214, стал родоначальником
всех двигателей на стойких компонентах для боевых ракет. С этого момента
начался закат ОКБ-3.
Первым в начале 55 г. Д.Д.Севрука покинул
Г.М.Табаков. Он перешел на должность заместителя главного инженера НИИ-88 с
перспективой стать директором филиала №2 института, который выделялся в
самостоятельное предприятие. Первым замом Д.Д.Севрука стал С.Д.Гришин, мой
руководитель дипломного проекта. Последние два месяца диплома меня опекал
И.В.Кострюков, который, впоследствии был секретарем парткома института и с 59 г. его главным инженером.
Рядом с Кострюковым в зале работал В.И.Харчев, который единственный в ОКБ-3
ходил в военной форме в звании майора. Про него писал Б.Е.Черток, как он
пытался выкрасть фон Брауна из американской зоны оккупации. В 56 г. М.К.Янгель выступил
перед вышестоящими организациями с предложением определить разработчиком
двигателей ракет Р-14 и Р-16 ОКБ-456 В.П.Глушко, вместо ОКБ-3 НИИ-88
Д.Д.Севрука. Создание филиала ОКБ-3 на заводе № 586 не могло заменить
полноценное КБ, и ставило под угрозу срыва выход на ЛКИ, определенный
действующими постановлениями. Соответствующие постановления вышли в 57 г. М.К.Янгель преобразовал
филиал ОКБ-3 в КБ по разработке рулевых двигателей, от создания которых
отказался В.П.Глушко, у которого двигатели управлялись графитовыми рулями, как
в Фау-2. В 57 была закрыта тема «Коршун», хотя документация на жидкостную
тактическую ракету уже была передана на Ижевский механический завод для
серийного изготовления и ракеты возили на парадах по Красной площади. Работы по
неуправляемой зенитной ракете «Чирок» были прекращены и в воздушном и в
наземном варианте в 57 г. Последним ударом был выбор в 58 г. П.Д.Грушиным
двигателя С2.711 ОКБ-2 вместо двигателя С3.20 ОКБ-3 для комплекса С-75. В
декабре 58 г.
принято решение об объединении ОКБ-2 и ОКБ-3 в одно КБ под руководством
А.М.Исаева. В январе 59 г. ОКБ-2 стало самостоятельной организацией.
Лишь несколько человек из ОКБ-3 остались в
институте. Д.Д.Севрук, по приглашению В.П.Глушко, вернулся в ОКБ-456 на
должность заместителя ГК, в Химках он постоянно проживал, работая в Подлипках.
Но В.П.Глушко предложил ему заниматься только электрическими двигателями, а не
двигателями на стойких компонентах. Отдел огневых испытаний двигателей № 31
ОКБ-3, где я работал, в полном составе вошел в ОКБ-2 под № 15. Такой исход событий был закономерен.
Д.Д.Севрук не имел производственной базы для изготовления двигателей
необходимой для М.К.Янгеля размерности. От переезда в Днепропетровск отказался.
Наладить работу по изготовлению и испытаниям двигателей через филиал не
удалось. Не было у Д.Д.Севрука и своей испытательной базы под размерность
двигателей Янгеля.
Испытательная станция по проекту
предназначалась для испытания ЖРД для ЗУР. Огневые стенды были расположены на
2-м этаже здания. На стенде № 1 испытывались ГГ. Стенды №№ 2,3,4 были
вертикальные и позволяли испытывать двигатели
тягой 1,5; 3 и 5 т. соответственно. Наклонный стенд № 5 позволял
испытывать двигатели с тягой до 17 т. Стенд № 6 (единственный горизонтальный)
был введен в строй в конце 56 г. Но нем можно было испытывать двигатели тягой
до 20 т. Таким образом, двигатели Янгеля
Севрук мог испытывать только в Днепропетровске. Может быть, В.П.Глушко и был
прав, обвиняя Д.Д.Севрука в авантюризме. Не имея соответствующей
производственной и экспериментальной базы, он пытался захватить слишком большой
кусок заказов, которым и подавился. В.П.Глушко оказался более мудрым. Уже к 52
году он проникся важностью перехода на стойкие компоненты для боевых ракет. С
53 г. развернулись экспериментальные работы по двигателю РД-211 тягой 56 т. Для
этого у него были не только лучшие условия, чем у Севрука, но и реальные творческие
достижения. В.П.Глушко удалось покончить с высокой частотой на
кислородно-керосиновых двигателях больших тяг. А.М.Исаев не смог побороть вч
колебания в стартовом двигателе «Бури» и вернулся к ТГ-02 вместо керосина. В
дальнейшем ни в одном двигателе А.М.Исаева керосин не применялся.
В.П.Глушко нанес вч колебаниям
кислотно-керосиновых двигателей двойной удар. В качестве горючего применил
специальный сорт керосина ТМ-185 и ввел в практику 4-х камерную компоновку
двигателя с одним ТНА. Следующим шагом В.П.Глушко была замена ТМ-185 на более
эффективное, самовоспламеняющееся с кислотой топливо НДМГ. Последним шагом была
замена АК-27и на АТ. Эту топливную пару наряду с М.К.Янгелем сделал основной
для своих ракет и В.Н.Челомей. Вслед за В.П.Глушко перешел на АТ и НДМГ и
С.А.Косберг, отказавшись от разработки кислородно-керосиновых двигателей для
С.П.Королева. Двигатели В.П.Глушко на первых ступенях боевых ракет обеспечили в
60-70-х годах СССР относительный ядерный паритет с США, да и в настоящее время
составляют основу РВСН по боевым блокам. Ракета носитель «Протон» с двигателями
Глушко на 1-й ступени, является единственным до сегодняшнего дня средством
доставки тяжелых спутников на стационарную орбиту.
В некоторых сообщениях указывается, что
Д.Д.Севрук начал первым применять НДМГ.
Могу утверждать, что испытаний с НДМГ Севрук на своих стендах не
проводил. Вытеснение НДМГ из стендовых баллонов высоким давлением нужно было
проводить азотом, а не воздухом. Я проводил первые испытания с НДМГ на 2-м
стенде этой станции на рулевой КС двигателя 4Д10 после объединения с ОКБ-2 А.М.Исаева, и после окончания строительства
азотно-кислородной станции и коренной реконструкции стенда. У Д.Д.Севрука была
высококвалифицированная химическая лаборатория. Через нее проводились сравнительные
испытания новых топлив на двигателях С09.29 и С3.25. Кр%
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - вк накрутка